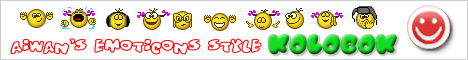Если у Вас, вдруг, где-то завалялось немного лишних денег - поддержите портал
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
Сообщение
#1
|
|
|
слабая женщина Группа: Супермодератор Сообщений: 5 299 Регистрация: 25 Апреля 2003 Из: Москва Пользователь №: 1 Спасибо сказали: 240 раз(а) |
О новом документальном фильме по сценарию Аркадия Ваксберга и с его непосредственным участием Правда одна. Нет двух правд. Трудно жить без правды… Часть правды – это неправда. В. Гроссман, «Жизнь и судьба» ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА Cоздатели недавно снятого историко-документального фильма «Реприза» – автор сценария Аркадий Ваксберг, продюсеры Григорий Илугдин (он же режиссер-постановщик) и Валерий Рузин, – давая такое название своему детищу, конечно, не имели в виду цирковой трюк. В дословном переводе с французского «реприза» – это повторение, возобновление чего-либо. Только такое толкование чужеземного словца может служить ключом к закодированной авторами основной идее картины: во что бы то ни стало доказать, что сталинский антисемитизм есть повторение нацистского Endlosung – «окончательного решения еврейского вопроса». Именно на этой, рожденной холодной войной и поныне весьма популярной на Западе идеологеме зиждется сценарий Ваксберга, которого без преувеличения можно назвать мозгом и душой фильма. Такой вывод правомерен уже потому, что Ваксберг не только изначально определил содержание картины, но и выступил в роли рассказчика, который, что называется, «от первого лица» предлагает нам свой взгляд на антиеврейскую политику Сталина. Используя эффект постоянного присутствия на экране, Ваксберг без посредников воздействует на зрителя и комментирует все, что тот видит, – от кадров документальной хроники военного времени и игровых эпизодов, представляющих того же Ваксберга в юности, до сцен современной жизни, где он запечатлен фланирующим по парижским улицам. Сама по себе такая форма подачи материала, безусловно, удачна. С одной стороны, она обеспечивает единство основных частей сюжета – двух вспомогательных (автобиографические эпизоды и тема В.С. Гроссмана) и главной (история о письме еврейской общественности в «Правду» и якобы готовившейся депортации евреев). А с другой – живое авторское слово всегда доходчивее и убедительней, чем профессионально поставленная, но лишенная эмоций сопричастности происходящему на экране дикторская речь. Однако тут важно соблюдение непременного условия: позиция ведущего должна быть предельно ясной. Никакой уклончивости. В противном случае авторский монолог превращается в инструмент манипулирования сознанием зрителя, в средство обмана. К сожалению, Ваксберг на экране лишь имитирует чистосердечие. Правда, имитирует он его благодаря актерскому дару и личному обаянию, несомненно присущим этому литератору, тонко, искусно, так что зрительская аудитория, поддавшись магии убеждения, в большинстве своем склонна ему верить. И только немногие, главным образом специалисты-историки, посвятившие не один год изучению проблем, которым посвящен фильм, способны трезво оценить его содержание. Вот лишь одна иллюстрация. На экране воспроизводится былая полемика Ваксберга с «зашоренным», в его понимании, французским коммунистом Шарлем Лидерманом, смеющим сомневаться в реальности государственного антисемитизма в СССР. Сомневается он еще и на том основании, что в мрачные послевоенные годы с самим Ваксбергом ничего не случилось. На этот вполне резонный довод следует скороговоркой произнесенный ответ явно задетого за живое собеседника: да, не случилось, но ведь могло случиться. Чувствуется, для Ваксберга этот вопрос явно из «неудобных». Ведь вопреки его словам о том, что после войны Сталин ввел такую процентную норму для поступления евреев в вузы, какой не было даже в царское время, ему самому, выходцу из еврейской семьи, почему-то удалось закончить в 1949 году весьма престижный юридический факультет МГУ, а потом – в самый черный для евреев 1952 год, когда были казнены тринадцать членов Еврейского антифашистского комитета, – еще и аспирантуру[1]. Неужели Ваксбергу просто повезло и его судьба стала исключением из жестких правил советской жизни, действительно установленных тогда для евреев? Или произошло нечто не совсем случайное? Будь картина Ваксберга воистину исповедальной, мы получили бы ответы на эти, на другие вопросы, подобные этим и возникающие по ходу фильма. Однако поскольку «Реприза» по духу далеко не «Покаяние» Т.Е. Абуладзе, оставшееся, по сути, гласом вопиющего в нашей кинопустыне, придется самостоятельно докапываться до истины. Я далек от того, чтобы безоглядно верить идейно враждовавшему с Ваксбергом В. В. Кожинову, когда тот свидетельствует, что в 1949 году, случайно столкнувшись в коридоре МГУ с юным тогда Аркадием Иосифовичем – студентом юрфака, он был неприятно поражен выражением остолбенелого восторга, застывшим на лице последнего в момент выхода из аудитории (после очередной лекции) А.Я. Вышинского[2]. Однако Кожинов так живо и реально описал ту памятную для него сцену, намеренно упомянув при этом имя невольного очевидца, Л.А. Рускол, что рассказанное им невозможно полностью отвергнуть. Тем более что последующее продвижение Ваксберга по карьерной лестнице в СССР было весьма успешным. И только в «перестройку», когда многих прежних кумиров стали сбрасывать с пьедесталов, Аркадий Иосифович назвал Вышинского «сталинским инквизитором». Однако, как писал Гюстав Флобер, низвергающим идолов не дано смыть с себя их позолоту, въевшуюся в кожу за время поклонения. До перестройки Ваксберг, как и подавляющее большинство советских граждан, покорно совершал ритуал поклонения советским божкам. В 1954 году в автореферате своей кандидатской диссертации он с пиететом цитировал сочинения Сталина, Жданова и Маленкова, разоблачая одновременно «антимарксистские взгляды» правоведов Хейфеца и Немзера[3]. Занимаясь позже преподавательской и адвокатской деятельностью, Ваксберг стал публиковаться, подвизаясь на ниве воспитания подрастающего поколения и наставляя его на примерах из жизни К. Маркса, Ф. Энгельса, «всегда» «мягкого и доброго»[4] В.И. Ленина, а также других «пламенных революционеров». «Светлой памяти» одного из них, Н.В. Крыленко, видного представителя и создателя репрессивной советской юстиции, побывавшего на постах председателя Верховного ревтрибунала республики, прокурора РСФСР, наркома юстиции СССР и др., он даже посвятил книгу[5]. С этим своего рода идеологическим заказом партии Ваксберг справился блестяще. Созданный им образ эдакого рыцаря социалистической законности получился не блеклым, ходульным и дидактичным, сработанным по канонам популярной серии «Жизнь замечательных людей», а ярким, человечным и потому убедительным. В книге Ваксберга Крыленко не только отдавал всего себя борьбе с коварными врагами новой светлой жизни, но и не был чужд таких романтических увлечений, как охота (да еще в компании с Ильичом), шахматы, альпинизм. (IMG:http://www.lechaim.ru/ARHIV/142/repriza.files/image002.jpg) Однако когда в эпоху гласности из праха забвения стали восставать тени невинных жертв рухнувшего режима, миф о человеке-легенде развеялся. Открылось, что, перед тем как навсегда сгинуть в пучине «большого террора», Крыленко сам немало поучаствовал в организации акций уничтожения. В качестве главного государственного обвинителя он выступал с речами (в народе их называли «сказками Крыленко») на процессе по «Шахтинскому делу», на процессе «Промпартии» (кстати, кадры хроники этого процесса – изображения жертв, но не палачей – использованы в «Репризе» как фон), на других сфальсифицированных политических судилищах 1920 – 1930-х годов. Подобно Вышинскому, считал личное признание «царицей доказательств» вины подсудимого. Заявлял: «Только лицемеры могут утверждать, что в гражданской классовой борьбе можно обойтись без физического уничтожения противника».[6] Когда книга о Крыленко вышла в свет, Ваксберг уже три года как работал в редакции «Литературной газеты», созданной еще Сталиным для идеологической обработки собственной интеллигенции и западного общественного мнения, а в 1960 – 1980-е годы возглавлявшейся А.Б. Чаковским, деятельным участником так называемых активных антисионистских мероприятий властей. Не так давно, кстати, А. Ваксберг написал о бывшем своем главном редакторе если не восторженную, то уж по крайней мере весьма и весьма хвалебную статью. Бесспорен факт, что работа в «Литературной газете» служила для «птенцов гнезда Чаковского» своеобразной школой фальсификаций, причем фальсификаций не в стиле суконно-кондовой печатной продукции «Правды», а гораздо более искусных, делавших грань, отделявшую ложь от истины, почти неразличимой. «Школа» эта воспитывала всегдашнюю готовность к выполнению очередного «социального заказа», умение ложь выдать за правду и наоборот; навыкам селективного подбора фактов (по принципу: «выгодные» – «раздувать», «невыгодные» – замалчивать; отсутствие «выгодных» фактов восполнять эрзацем, сотворенным из слухов, домыслов и выдумок). Учила методам воздействия на чувства читателей посредством популизма, мифотворчества, использования всех психологических средств – от тонкой игры в сердечность и доверительность до грубой брани в адрес тех, кого надо представить в образе врага. Подобный анализ задним числом был бы излишним, если бы советская пропагандистская методология не «проросла» в «Репризе», дав причудливые всходы на новой почве либеральной публицистики. КОММЕНТАРИИ СВОБОДНЫ, НО ФАКТЫ СВЯЩЕННЫ Собственно, ради торжества этого девиза английских журналистов, провозглашенного в 20-е годы прошлого века, я и рискнул обратиться к некоторым фактам биографии Ваксберга, который, полагаю, конечно, поспешит обвинить меня в намеренном сборе компромата и выходящей за рамки дозволенного дискредитации оппонента. Это обвинение было бы справедливо, если бы Аркадий Иосифович в своем фильме-исповеди – таков он по крайней мере по форме – хотя бы попытался честно разобраться в собственном прошлом. Напротив – в автобиографических эпизодах юности мы увидели сценариста лишь в трогательном, симпатичном, но далеком от реальности образе. Двадцатилетний студент МГУ даже внешне не мог походить на юное создание, глядящее с экрана детскими наивными глазами в игровых сценах, датируемых сценарием 1948-м годом. То же самое можно сказать и о юноше в кадрах, переносящих нас на темные московские улицы зимы 1953 года. Тогда «всамделишному» Ваксбергу шел 26-й год, и почему-то слабо верится в реальность его разыгранных в фильме романтических чувств к «шестнадцатилетней Маринке». Конечно, все эти несоответствия между Ваксбергом в жизни и им же на экране не так уж существенны. Но вообще-то «накладок» в фильме немало. Скажем, в самом начале Ваксберг вспоминает, как «проклятой», «страшной» зимой 1953-го он, достав утром 13 января из почтового ящика «Правду» и добравшись до четвертой страницы, узнал из сообщения ТАСС об аресте группы «врачей-вредителей». Зачем, спрашивается, понадобилось ему залезать в самый конец номера, когда о том же буквально кричал с первой полосы аршинный заголовок передовицы: «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей»? Видимо, Ваксберг и те, кто ему помогал в сборе документальных материалов для фильма, если и держали в руках когда-либо этот номер «Правды», то очень давно. В противном случае Ваксбергу не понадобилось бы «близко к тексту» воспроизводить соответствующее место из мемуаров И.Г. Эренбурга (тот тоже почему-то начал читать «Правду» за 13 января 1953 года с «хвоста»[7]), а создателям видеоряда – халтурить, демонстрируя газету за совсем другое число – 22 января 1953 года. Еще один «ляп». Когда Ваксберг говорит, что в конце лета 1941 года с экранов вдруг исчезли фильмы о погромах в Германии («Семья Оппенгейм», «Профессор Мамлок») и фильм о советских евреях («Искатели счастья»), а из известной кинокартины Г. Александрова «Цирк» вырезали эпизод с Михоэлсом и Зускиным, поющими колыбельную на идише, зрителям остается лишь недоумевать: в незабываемых кадрах они видят Михоэлса и артистку ГОСЕТа Любовь Ромм, которую разве что с закрытыми глазами можно принять за Зускина. Впрочем, все эти курьезные погрешности – только «цветочки» в сравнении с «ягодками», которыми потчует Ваксберг доверчивого зрителя на протяжении всего фильма. Создается впечатление, что в исследуемой проблеме ему изначально все ясно и без фактов, которые нужны разве только для того, чтобы проиллюстрировать уже готовую концепцию. Он не размышляет, а утверждает, поучает и разоблачает. В лучшем случае он «терпит» лишь те факты, что как-то укладываются в «прокрустово ложе» его схемы. С другими поступает согласно известной сталинской формуле: «Если факты против нас, тем хуже для фактов». Вообще реальность играет в фильме подсобную роль: она используются не для выяснения истины, а главным образом для нагнетания страстей, для воздействия на зрителей на чисто эмоциональном уровне. Наблюдая за Ваксбергом, невольно вспоминаешь новеллу Томаса Манна «Марио и волшебник», где один из главных персонажей, гипнотизер-циркач считал себя вправе манипулировать не только чувствами, но и подсознанием простодушной публики. За что, впрочем, потом поплатился. Перейдем, однако, к центральной теме фильма – к «делу врачей» и его роли в истории государственного антисемитизма эпохи Сталина. «ПРОТОКОЛЫ КРЕМЛЕВСКИХ МУДРЕЦОВ» Основная авторская идея состоит в том, что «дело врачей» и якобы вызванные им приготовления в Кремле к депортации евреев – это важный элемент тайного заговора Сталина и его ближайшего окружения. По Ваксбергу, главной движущей силой этого заговора явилось намерение «кремлевских мудрецов» воплотить в жизнь не выполненное Гитлером «окончательное решение еврейского вопроса». Отсюда и упорное стремление авторов фильма доказать, что гитлеровский геноцид евреев и сталинский государственный антисемитизм – явления одного порядка и никакого принципиального отличия между ними не существует. Что, конечно, не соответствует исторической правде и служит попыткой ее вульгарного извращения. Ибо научно установлено: тайный антисемитизм Сталина сводился к постепенному, дозированному вытеснению евреев из сферы политики и управления государственными делами, что так или иначе продолжалось и после его смерти – почти вплоть до падения коммунизма в нашей стране. Гитлер же не только открыто угрожал евреям тотальным уничтожением, но и впервые в истории цивилизации ввел в действие мощную индустрию истребления целого народа. К тому же Сталин как политический прагматик не мог не понимать, что продолжение нацистской антиеврейской политики равносильно самоубийству для него самого и его многонациональной империи. Поэтому тот антисемитизм, который мог позволить себе Сталин, был «подковерный», «исподтишковый», внятно заявивший о себе только однажды, зимой 1953 года, когда обострение старческой паранойи заставило Сталина на время потерять контроль над собой. Ставя жирный знак равенства между гитлеровским Холокостом и сталинской юдофобией, Ваксберг предпочитает не замечать существенной разницы между ними. Для него все кошки серы. И чтобы доказать никогда не существовавшее тождество, он вольно или невольно стремится обелить нацизм и максимально демонизировать сталинизм, прибегая для этого к демагогической риторике и искажению фактов. По его словам, «сталинский антисемитизм слился в жарких объятиях с гитлеровским антисемитизмом», и В.М. Молотов, назначенный в мае 1939 года наркомом иностранных дел, «прямиком» заявил бывшему руководителю НКИД М.М. Литвинову, что Сталин поручил ему «разогнать синагогу» в этом ведомстве. Однако если бы Молотов действительно сослался в таком деле на Сталина, то не сносить бы ему тогда головы. В действительности не Молотов Литвинову, а Сталин Молотову приказал, причем, надо полагать, без свидетелей: «Убери из наркомата (НКИД. – Г.К. ) евреев»[8]. Полемизируя с Ш. Лидерманом, считавшим, что Красная Армия спасла евреев от фашизма, Ваксберг утверждает, что Сталин воевал не с нацистской идеологией, а лишь с германской армией и что нацистская идеология одержала в войне «сокрушительную победу». Мысль по меньшей мере спорная, но пусть она останется на совести сценариста, хотя даже в Германии сейчас мало кто сомневается в том, что наряду с айнзацгруппами, которыми руководила такая зловещая структура партии, как СС, самое активное участие в уничтожении евреев на территории СССР принимал и вермахт. Так что, сражаясь с ним, Красная Армия в любом случае спасала евреев. Неправ Ваксберг и тогда, когда говорит, что «четыреста с лишним русских газет, выходивших при оккупантах, изо дня в день науськивали своих читателей на “пархатых” и “крючконосых”». Во-первых, большая часть из такого рода изданий печаталась не на русском, а на языках других народов СССР, а во-вторых, все они, независимо от того, на каком языке выходили, по существу представляли собой пропагандистскую продукцию германских властей. Вряд ли подобные «неточности» носят случайный характер. В фильме неоднократно дается понять, что изначальным злом являлась массовая ненависть русских к евреям, а государственный антисемитизм Сталина носил вторичный характер. Вот почему после рассуждений Ваксберга о «русских газетах», травивших евреев, следуют кадры с работающими в поле русскими крестьянками, осеняющими крестами проходящую мимо колонну фашистских мотоциклистов (не уверен, что сие не монтаж). А потом все это итожится столь же кощунственным, сколь и нелепым выводом: миллионы славян Советского Союза, поверив гитлеровской пропаганде о том, что Сталин возлюбил евреев, тем самым до такой степени оскорбили великого юдофоба, что тот решил «низвергнуть эту версию ценой жизни целого народа». То есть в подготовке депортации евреев, факт планирования которой так никогда и никем не был доказан, Ваксберг уже обвиняет не столько Сталина, сколько миллионы русских, украинцев, белорусов… «Откровений» подобного рода в фильме немало, и вряд ли они поспособствуют межнациональному взаимопониманию в полиэтнической России. Впрочем, никакие опасения, кажется, не посещают Ваксберга, ныне живущего во Франции. Сей благословенный край он готов, в отличие от не очень, видимо, любимой родины, превозносить до небес. Вот он убежденно толкует нам с экрана, что во Франции «не клеймят антисемитизм и не борются с антисемитизмом… » В том, видимо, просто нет необходимости. Во Франции с младых ногтей всем внушают, что дети разных народов суть равноправные граждане, и благодаря этому, как можно понять, в стране торжествует идиллия в межнациональных отношениях… Увы, чудес на свете не бывает. Ксенофобия и ее разновидность антисемитизм («тень еврейства», по слову А. Эйнштейна) еще сильны повсюду, и Франция, где совсем недавно под Парижем подожгли еврейскую школу[9], не составляет исключения. В действительности тамошние власти с антисемитизмом еще как борются, законом запретив, например, антиеврейскую пропаганду, нацистскую символику и сочинения отрицателей Холокоста. … Противоречия в содержании фильма так разительны, что видны невооруженным глазом. Ваксберг, скажем, вспоминает, что в октябре-ноябре 1941 года его мать категорически отказалась покинуть Москву, после чего на экране возникают документальные кадры столицы военной поры. Аркадий Иосифович сопровождает их уверенной фразой: о том, что уготовано евреям под нацистами, толком еще не знал никто. Однако через несколько минут на экране воспроизводится состоявшийся в августе 1941-го и транслировавшийся столичной радиосетью еврейский антифашистский митинг, заклеймивший позором гитлеровский геноцид евреев. После чего, естественно, возникает вопрос: так знали евреи, что их ждет при Гитлере, или нет? К счастью, историкам тут все более или менее ясно. По крайней мере тем из них, кто знаком с широко известной речью Сталина, произнесенной по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции, где недвусмысленно сказано о гитлеровцах как устроителях средневековых еврейских погромов[10]. (IMG:http://www.lechaim.ru/ARHIV/142/repriza.files/image003.jpg) (IMG:http://www.lechaim.ru/ARHIV/142/repriza.files/image004.jpg) Чтобы прикрыть чужим непререкаемым авторитетом собственную несостоятельность в качестве историка и публициста, Ваксберг на протяжении всего фильма апеллирует к памяти Василия Гроссмана. Впрочем, это все равно не препятствует манипулированию фактами. В фильме, скажем, утверждается, что очерк Гроссмана «Украина без евреев» не был напечатан в советское время. Звучит вроде бы убедительно, поскольку известно, что власти всячески препятствовали выходу в свет этой работы. И все же, если верить С.И. Липкину, очерк удалось опубликовать «в каком-то второстепенном журнальчике»[11]. Грешит Ваксберг против истины, убеждая зрителей, что другой очерк В. Гроссмана на тему Холокоста, «Треблинский ад» (он распространялся советскими представителями на Нюрнбергском процессе как официальное свидетельство обвинения), потому-де был напечатан, что Гроссман, пойдя на хитрость, ни разу не употребил в нем «крамольного слова “еврей”». Не знаю, давно ли Ваксберг перечитывал этот страшный документ истории и знакомился ли с ним вообще. Но если он когда-либо держал его в руках, то не мог не заметить, что в этом небольшом сочинении, изданном только в Москве в 1945 году дважды, слово «еврей» употребляется в различных вариациях как минимум пять раз – при том, что Гроссману национальный аспект не был важен в первую очередь[12]. Для него, писателя-гуманиста, «Треблинка» стала прежде всего символом нацистской индустрии убийств, символом глумления темных сил преисподней над священной человеческой жизнью. Гроссман пишет о трех миллионах уничтоженных в этом концлагере как об общечеловеческой трагедии. Это, разумеется, не мешает ему скорбеть и о людях из народа, родного по крови, составивших подавляющее большинство погибших в Треблинском аду. (IMG:http://www.lechaim.ru/ARHIV/142/repriza.files/image005.jpg) Укрывшись под сень почитаемого в России имени Гроссмана, Ваксберг, кроме того, пытается выдать за подлинное так называемое «обращение» группы евреев в «Правду», авторы которого просят о выселении их вместе с остальными соплеменниками в отдаленные районы СССР. Тем самым он совершает подлог, ибо подменяет своим фальсификатом письмо, действительно подготовленное в верхах в конце января-феврале 1953 года. Оно написано от имени нескольких десятков выдающихся евреев (варианты письма ныне хранятся в Архиве Президента РФ и в Российском государственном архиве новейшей истории), но не содержит никакого призыва к депортации. Поскольку отсутствие призыва выбивает главное доказательство из-под «теории» Ваксберга о подготовке в СССР второго Холокоста, он, проговариваясь о существовании «первоначального, самого немыслимого, самого безжалостного текста письма» и заведомо дезинформируя затем зрителей на тот счет, что этот текст «известен пока по воспоминаниям тех, кого удостоили чести его подписать», как искусный фокусник, делает подмену прямо на глазах. Вместо первого варианта подлинника из архива, действительно «безжалостного», хотя и содержащего отнюдь не призыв к депортации, а лишь требование «самого беспощадного наказания преступникам» (арестованным «врачам-вредителям». – Г.К.), Ваксберг зачитывает текст, сфабрикованный известным сторонником депортационной версии Я.Я. Этингером[13]. Вся эта манипуляция обставляется не только провокационно (в качестве видеоряда используются современные съемки молебствия в Московской хоральной синагоге), но также весьма хитро и изобретательно. Прежде чем огласить подделку, Ваксберг, не обмолвившись ни единым словом об Этингере, как бы случайно вместо него ссылается на автора «Жизни и судьбы»: «Гроссман вспоминал, что это (обращение еврейской общественности в “Правду”. – Г.К.) была мольба евреев защитить их ссылкой от грядущего самосуда… » Ничего подобного, однако, Гроссман не «вспоминал». Из мемуаров С.И. Липкина известно, что друживший с ним писатель так однажды изложил ему смысл письма: «врачи – подлые убийцы, они должны подвергнуться самой суровой каре, но еврейский народ не виноват, есть много тружеников, советских патриотов и т.д. »[14] Поскольку в этих строках, точно передающих суть хранящегося в госархиве подлинного, самого первого варианта «еврейского письма» в «Правду», депортация никоим образом не упоминается, они, разумеется, «озвучены» Ваксбергом не были. Вместо них он приводит отвечающую его собственной, но, как мы убедимся ниже, сомнительной с научной точки зрения версию из воспоминаний В.А. Каверина. Каверин утверждал, что ему, приглашенному в свое время в редакцию «Правды», показали и предложили подписать коллективное письмо представителей советской еврейской элиты, которое представляло собой «приговор, мгновенно подтвердивший давно ходившие слухи о бараках, строившихся для будущего гетто на Дальнем Востоке»[15]. Однако многое говорит за то, что это свидетельство недостоверно. Во-первых, Каверин пишет, что был вызван в редакцию «Правды» зимой 1952 года, а сбор подписей под «еврейским письмом» происходил в конце января – феврале 1953 года. Во-вторых, хотя из информации, полученной из госархива буквально на днях, вытекает, что Д.И. Заславский и Я.С. Хавинсон работали в период «дела врачей» в «Правде» и могли участвовать в сборе подписей под «еврейским обращением» (это частично подтверждается и свидетельством И.Г. Эренбурга[16]), настаивавший на том же самом Каверин прав тут не во всем. Вопреки его утверждению, «руководящим работником» газеты являлся не Заславский – был лишь обозревателем, и потому, возможно, не был допущен к подписанию обращения, а Хавинсон, который, напротив, допущен был, так как вплоть до своего увольнения из «Правды» в мае 1953 года входил в состав ее редколлегии. В-третьих, данный Кавериным словесный портрет Хавенсона (так почему-то он именуется писателем) мало соответствует оригиналу. Каверин изображает Хавинсона тридцатипятилетним лощеным красавцем[17], тогда как в реальности тот был почти на двадцать лет старше (в 1953 году ему исполнилось 52 года) и не мог похвастаться приятной наружностью. Более того – постоянно носил массивные очки с толстыми стеклами и потому казался подслеповатым, не отличался ни светскими манерами, ни умением изящно одеваться. Ясно, что Каверин никогда не видел реального Хавинсона, и более чем очевидно, что он не читал настоящего «еврейского письма», хотя, возможно, ему и предлагали его подписать. Кроме того, Каверин, а вслед за ним и Ваксберг, назвав Гроссмана среди «подписантов» «подлого» «депортационного письма», фактически возвели на него облыжные обвинения, так как в реальном обращении, под которым тот поставил свое имя, о выселении евреев, как уже было сказано выше, речь не шла. (IMG:http://www.lechaim.ru/ARHIV/142/repriza.files/image006.jpg) О том, что Ваксберг без особого пиетета относится к памяти Гроссмана, наглядно свидетельствует и такой вроде бы пустяк: говоря об аресте в начале 1960-х рукописи книги «Жизнь и судьба», он небрежно замечает: М.А. Суслов предрек-де, что это произведение увидит свет не раньше, чем через 200 лет. На самом деле тот сказал: «Напечатать книгу можно будет через 250 лет», – и это зафиксировано в дневниковой записи Гроссмана за 23 июля 1962 года[18]. Указанные выше «нестыковки» с фактами в воспоминаниях Каверина, кстати, просившего читателей отнестись к этому литературному итогу его жизни «беспощадно», возможно, обусловливались тем, что окончательно были подготовлены к печати в конце 1980-х годов, когда из рушившегося на глазах СССР отмечался самый массовый исход евреев, а старые слухи о сталинской депортации обрели словно бы вторую жизнь, превратившись в сознании многих в некую историческую реальность. Как не вспомнить тут стихотворную строчку Б.Л. Пастернака о художнике – пленнике времени. Но сейчас на дворе другие времена. И то, что было понятно и, быть может, даже оправданно десять – пятнадцать лет назад, нельзя простить ныне, когда существует реальная возможность с фактами в руках объективно разобраться в том, что происходило в нашей стране в далекие годы. К сожалению, Ваксберг, видимо, таким желанием не горит. Если версия Каверина изначально как нельзя лучше укладывалась в концептуальное «прокрустово ложе» «Репризы», то для того, чтобы втиснуть туда еще и свидетельство Эренбурга, Ваксбергу пришлось потрудиться, извращая его суть. В мемуарах «Люди, годы, жизнь» Эренбург, размышляя об арестах «врачей-вредителей» и начавшейся в январе 1953 года пропагандистской кампании, пишет: «События должны были развернуться дальше. Я пропускаю рассказ о том, как пытался воспрепятствовать появлению в печати одного коллективного письма. К счастью, затея, воистину безумная, не была осуществлена. Тогда я думал, что мне удалось письмом переубедить Сталина, теперь мне кажется, что дело замешкалось, и Сталин не успел сделать того, что хотел»[19]. Всякому здравомыслящему человеку из этого текста понятно: «затея, воистину безумная» – это неоднократно упоминавшееся выше коллективное письмо в «Правду» с требованием «самого беспощадного наказания» арестованным врачам, исполнение которого действительно затянулось («дело замешкалось»), благодаря чему, как дает понять Эренбург, Сталин не успел провести расстрельный процесс («сделать того, что хотел»). Но для Ваксберга, для которого сталинская депортация евреев превратилась в idee fixe, «затея, воистину безумная» и есть этот самый «план всееврейского выселения» в зашифрованном виде. Такая трактовка логически вытекает из того, что Ваксберг вот уже более десяти лет активно пропагандирует миф о депортации. Правда, соприкоснувшись с ним в 1991 году, он поначалу осторожно констатировал, что «эта история (с депортацией. – Г.К.) еще достаточно темна, в ней множество загадок и недоговоренностей»[20]. Однако сомнения мучили его недолго. Уже в 1993 году Ваксберг без колебаний примкнул к сторонникам депортационной версии, поддержав в своей новой книге все составлявшие эту версию легенды[21]. И вот теперь, читая с экрана упомянутую выше фальшивку Этингера, он пытается убедить зрителей, что именно этот текст и направили зимой 1953 года Эренбургу, который, оказывается, в ответ не только его не подписал, но и, обратившись к «вождю» с личным посланием, «предпринял отчаянную попытку сорвать сталинский замысел депортации». В действительности Эренбургу, как и Гроссману, предлагали подписать отнюдь не своеобразное приглашение на казнь, а так называемую первую редакцию коллективного обращения евреев в «Правду» (дается в приложении к данной статье). Будучи убежденным сторонником ассимиляции евреев и поддерживая ленинско-сталинский тезис о том, что «еврейской нации нет», писатель скептически воспринял представленный ему текст. Сказалось, видимо, то, что он еще в 1945 году демонстративно дистанцировался от еврейства, став потом главным проповедником антисионизма. К тому же 27 января 1953 года, то есть буквально в те же дни, когда Эренбург знакомился с проектом «еврейского письма», состоялось широко разрекламированное вручение ему Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами». Эта акция была призвана наглядно продемонстрировать и стране, и особенно всему миру, что советским евреям как таковым ничто не угрожает – более того, некоторых из них за заслуги перед государством даже награждают, а если кое-кого иногда и наказывают, то только за нарушение закона, перед которым равны все советские граждане независимо от национальности. (IMG:http://www.lechaim.ru/ARHIV/142/repriza.files/image007.jpg) |
|
|
|
 |
Ответов
|
Сообщение
#2
|
|
|
Начинал несмело, но затянуло Группа: Обозреватель Сообщений: 330 Регистрация: 25 Май 2005 Из: Haifa Пользователь №: 228 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
А.Блюм
ЕВРЕЙСКАЯ ТЕМА ГЛАЗАМИ СОВЕТСКОГО ЦЕНЗОРА (По секретным документам Главлита эпохи Большого террора) Историки расходятся во мнении по поводу того, когда именно начался в СССР официальный, инспирированный сверху антисемитизм (что касается бытового, то здесь они более или менее едины: он существовал всегда — то в смягченном, скрытом виде, то принимая довольно жесткие формы в связи с конкретной исторической ситуацией). Одни склонны считать, что все-таки до 1948 г., когда была развязана откровенная антисемитская кампания,— разгром Антифашистского комитета, убийство Михоэлса и закрытие еврейских театров и издательства «Дер эмес», дело театральных критиков и так называемых космополитов, аресты и расстрелы крупнейших еврейских поэтов всего, что логично привело затем к «Делу врачей»,— антисемитизм со стороны властных и идеологических структур открыто не провозглашался. Другие полагают, что он начался в 1943 г., когда в недрах ЦК возникло секретное распоряжение об ограничениях в выдвижении евреев на руководящие посты. Третьи соотносят это с пактом 1939 г. «Риббентропа-Молотова» о ненападении. Национальный состав выведенных из ЦК и уничтоженных в 30-е годы его членов также заставлял предполагать, что тут дело не обошлось без втайне объявленной «линии партии». В те годы был популярен вопрос-анекдот: «Скажите, в чем сходство и разница между Моисеем и Сталиным? Ответ: оба вывели евреев, но Моисей — из Египта, а Сталин — из Политбюро». Как известно, сразу же после октябрьского переворота и в течение 20-х годов провозглашалась политика «интернационализма». Как свидетельствуют документы цензуры тех лет, регулярно подвергались тем или иным гонениям книги и периодические издания, в которых заметны были антисемитские мотивы. Тем не менее, в связи с усилением бытового антисемитизма во 2-й половине 20-х годов на официальном уровне была развернута широкая кампания по борьбе с ним. Выходили книги, разоблачающие это «позорное явление», печатались статьи в популярных журналах и т.д. ОГПУ подготовило для ЦК ВЛКСМ впечатляющую сводку донесений о случаях антисемитизма в среде рабочих, крестьян, интеллигенции и духовенства. На их основе ЦК ВЛКСМ 2 ноября 1926 г. подготовил резолюцию «О борьбе с антисемитизмом», а сами документы были разосланы руководящей комсомольской верхушке с пометой: «Хранить строго секретно, перепечатка и разглашение воспрещается». [1] Значительную ценность для выяснения поставленного в начале статьи вопроса представляют документы цензуры (Главлита и его местных отделений). Именно цензура, руководствуясь часто устными распоряжениями руководящих партийных идеологов, наиболее четко и последовательно проводила линию партии, до поры скрытую от «посторонних глаз». Хотя цензурные документы, как это ни покажется странным, до сих пор в большинстве своем недоступны, автору этих строк удалось познакомиться с секретными донесениями Главлита и Ленинградского Обллита, регулярно доставлявшимися в Особый сектор Ленинградского обкома ВКП(б) (Центральный государственный архив историко-политических документов (бывший Партархив) — далее ЦГА ИПД). Они и положены в основу статьи. Еврейская тема начинает «актуально» звучать в этих донесениях с 1936 г.— совпадение, вряд ли нуждающееся в комментариях... Цензура очень внимательно следила за освещением, в частности, темы еврейского переселения на Дальний Восток и создания там Еврейской автономной области с центром в Биробиджане. Этот искусственный проект, как известно, в сущности провалился, [2] но идеологические структуры и цензурные органы всячески скрывали это, распространяя версию о «массовом энтузиазме» евреев. Так, например, согласно «Сводке конфискаций и запрещений № 8» Главлита, разосланной в начале 1936 г., «в журнале «Трибуна» (орган ЦК ОЗЕТА — Общества для земельного устройства трудящихся евреев) в статье С.Е.Чуцкаева цензором сняты цифровые данные об уходе из Биробиджана евреев-переселенцев, как по отдельным годам, так и за время с 1928 по 1934 гг. (за это время, сообщается в статье, покинуло Биробиджан 71% переселенцев)» [3]. В той же главлитовской сводке фигурирует и такое сообщение: «В пьесе: Лев З. «Герман Фридберг» (авториз. перевод Б.Х.Черняка, М., ЦЕДРАМ, 1936) снято следующее место: "Все евреи всегда ломают комедию. Что, Ленин не ломал разве?"» [4] Действие пьесы происходит в нацистской Германии 1 мая 1933 г., через 2 месяца после прихода Гитлера к власти, а реплика эта принадлежит штурмовику. Ясно, что цензора не устроил здесь намек на происхождение Ленина (эта традиция продолжалась десятилетия: вспомним скандал, устроенный ЦК, в связи с попыткой М.Шагинян в 60-е годы опубликовать в романе-хронике «Семья Ульяновых» найденный ею в архиве Синода документ о крещении доктора Абеля Бланка — деда Ленина по материнской линии: вождь пролетариата должен быть вне подозрений). Хотя, добавим мы, из других «многочисленных кровей» (шведской, например), которые текли в его жилах, тайны никогда не делалось. Справедливости ради отметим все же, что в 1936 г. цензура еще пыталась иногда искоренять проявления антисемитизма в печати. Об этом свидетельствует такой курьезный эпизод, попавший в «Сводку Главлита»: «В журнале «Книга и пролетарская революция», № 4, снято сообщение, в котором рекомендуется антисемитская книжка: «Букинистический магазин МОГИЗа приобрел недавно любопытную и крайне редкую брошюру «Памятная книжка христиан породою из евреев» СПб., типография Штаба внутренней стражи, 1846». Содержание брошюры — смесь примитивной солдатской «словесности» с миссионерским богословским туманом. Тут и «Символ веры», и «Десять заповедей», и «Наставление воину Христову». [5] Кажется, это был последний случай такого рода в цензурной практике, но непонятно, что же собственно антисемитского нашли надсмотрщики за печатью в этой совершенно безобидной, крохотной книжечке... Скорее всего, она предназначалась для обращения в православие кантонистов, но никаких выпадов против евреев и иудаизма в ней нет, а лишь утверждается, что в Ветхом завете содержатся пророчества о приходе Мессии и доказывается, что им стал именно Иисус Христос. Не менее курьезен эпизод с «Государственной племенной книгой крупного рогатого скота», вышедшей в 1936 г., в которой по распоряжению Главлита, были «...сняты клички скота: «Самоед», «мотек*», «Жидочек». Цензором было доложено Краевому комитету ВКП(б), который предложил изменить наименования и выявить виновных для привлечения к ответственности». [6] Однако именно в 1936 г. происходит смена ориентиров: еврейская тема объявлена несуществующей, и цензура начинает рьяно выполнять новую установку идеологического аппарата ЦК. Первый инцидент такого рода, как следует полагать, произошел в связи с «неудобной» цитатой, почерпнутой из Плеханова. В «Сводке важнейших запрещений и конфискаций Главлита» за 1936 г. указывается: «В журнале «Под знаменем марксизма», № 7, по указанию цензора, была вычеркнута следующая цитата из Плеханова: «...В городах развязными господами положения являются пьяные солдаты и учиняют погромы, иногда заканчивающиеся избиениями евреев... Круг замыкается и, по-видимому, недалека та минута, когда он окончательно сомкнется». [7] По-видимому, этот вычерк (купюра на цензорском жаргоне) был сделан в статье К.Егорова «О стихийности и сознательности в рабочем движении» (с. 42—62), посвященной разбору и критике взглядов Г.В.Плеханова, а сама цитата почерпнута из цикла «Год на родине», посвященного критике большевистской политики в период между февралем и октябрем 1917 г. и к тому же опубликованного в 1-м томе собрания сочинений «первого русского марксиста», вышедшем в Париже в 1921 г. Тогда это уже само по себе считалось «криминалом» да и «еврейский акцент» этого фрагмента был оценен как крайне нежелательный. Начиная с этого времени, любые упоминания в печати о еврейских погромах, хотя бы и относящиеся к «проклятому прошлому», неизменно подвергались изъятию и запрету. В начале 1937 г. внимание Главлита привлек рассказ А.И.Куприна «Гамбринус», написанный в 1906 г. В «Сводке... № 6/28» по этому поводу говорится: «В книге Куприна «Сочинения», т. 1,— вреден «Гамбринус». Сказано — «Утром начинался погром. Люди, которые однажды, растроганные чистой радостью и умиленные светом грядущего братства, шли по улицам с пением, под символами завоеванной свободы,— те же самые люди шли теперь убивать, и шли не потому, что им было приказано, и не потому, что они питали вражду против евреев, с которыми часто вели тесную дружбу, и даже не из-за корысти, которая была сомнительна, а потому, что грязный, хитрый дьявол, живущий в каждом человеке, шептал им на ухо: «Идите. Все будет безнаказанно: запретное любопытство убийства, сладострастие насилия, власть над чужой жизнью». Этой мотивировки погромов — не от провокации, а от внутренней извращенной психики масс,— нельзя принять. К тому же на погром шли не те же массы, что шли в революцию. Кадры погромщиков вербовались царской охранкой из люмпен-пролетарских отбросов и наемных черносотенцев. Все, кроме первого предложения,— снято». [8] Таким образом, чудесный и трогательный рассказ Куприна, который так нравился Л.Н.Толстому, часто читавшему его в кругу своей семьи, был исковеркан самым безжалостным образом. «Утром начинался погром...»,— но кого именно громили? Погром должен был быть обязательно «черносотенным»: ни в коем случае в публикациях не должны фигурировать «простые трудящиеся люди» — рабочие и крестьяне. Мелочность и бдительность цензуры в этом смысле дошла до того, что в верстке «Голубой книги» М.М.Зощенко, готовившейся к печати в 1935 г., была сделана примечательная купюра и замена в сцене, описывающей одесский погром в 1905 г. Вместо — «... обороняли целый квартал и сдерживали натиск озверелой пятитысячной толпы» напечатано: «...озверелой черносотенной толпы» [9]. Убрана, как мы заметим, и «количественная характеристика» погромщиков, указывавшая на массовый характер этого трагического события. Еврейских погромов не было в России «никогда», даже в далеком XVII веке... Известный историк и знаток еврейского вопроса на Украине С.Я.Боровой в недавно опубликованных замечательных «Воспоминаниях» рассказывает о своей безуспешной попытке издать в 1936 г. подготовленные и переведенные им «Еврейские хроники XVII века», посвященные ужасающей катастрофе, которую довелось испытать евреям на Украине в пору так называемой «хмельнитчины»: «...Книга была набрана в конце 1936 г. Но наступил 1937-й роковой год. Я успел еще получить верстку этой книги, но сменилось руководство издательства (Соцэкгиза, предполагавшего выпустить этот труд — А.Б.), на короткий срок во главе издательства оказался Бела Кун. Набор был уничтожен, но у меня сохранилась верстка этой книги, которая уже никогда не увидит свет». [10] По словам ученика Борового (и автора предисловия) М.Соколянского, «переплетенный второй экземпляр верстки «Хроник» С.Боровой бережно хранил и давал читать только самым близким друзьям». [11] Историк не сообщает об истинных причинах запрета книги, хотя он, по-видимому, догадывался о них. Подоплека обнаружена недавно в главлитовский сводке «Задержаний и конфискаций» за начало 1937 г.: «Задержана книга «Классовая борьба на Украине в XVII веке. Еврейские хроники» — ввиду того, что эти летописи односторонне освещают крестьянское движение на Украине и содержат описания еврейских погромов в XVII в. со стороны украинских крестьян, холопов и казаков». [12] Если нельзя было публиковать исторические документы о погромах в XVII в., то тем более запрещалось касаться случаев проявления современного антисемитизма, особенно в пролетарской среде. Так, в январе—феврале 1937 г. цензоры Ленинградского Горлита, приставленные к так называемым «многотиражным» заводским газетам, то и дело вычеркивали из представленных на предварительный просмотр статей все упоминания о подобных случаях. Приведем лишь некоторые фрагменты ежедекадной «Сводки вычерков и конфискаций Ленгорлита» за эти месяцы, присланной в Обком партии: «Газета «Лесной порт», № 2 от 8.01.1937. В статье «Что творится в ремонтном цехе» снято выражение, что среди рабочих процветает антисемитизм, так как в доказательство не приводится ни одного случая. Как обвинение, не подтвержденное ни одним фактом, было цензором снято». Газета «Монтажник» — завод «Гидравлика», от 6.02.1937. В заметке «Позорное явление» редакция неверно и безграмотно освещает имевшиеся у нас случаи антисемитизма: «Товарищеский суд, состоявшийся в мае 1936 г., показал, что в этом доме существует национальная вражда по отношению к евреям и татарам. Суд постановил: Постникову и Пономареву оштрафовать на 10 рублей каждую». Редакция восклицает: «Казалось бы, что после решения суда (штраф 10 руб.) вражда должна прекратиться? Однако, случилось наоборот». Статья была переделана». [13] Последняя фраза редакции особенно замечательна... В стране в это время воцаряется и торжествует не столько идеократия (власть идей), сколько логократия — власть слов. На некоторые слова накладывается идеологическое табу; во всяком случае, их рекомендуется употреблять в печати как можно реже и ни в коем случае не акцентировать на них внимание. Так происходит со словами «еврей», «еврейский»... В этом смысле примечательна цензурная история, приключившаяся в 1938 г. с первым изданием очень популярной среди детей повести Дины Леонтьевны Бродской «Марийкино детство» (сама она погибла в блокадном Ленинграде 3 января 1942 г.). В декабрьской сводке ленинградского Облгорлита, включавшей «важнейшие вычерки и запрещения», об этой повести говорится: «"Марийкино детство" Д.Бродской (Ленинградское отд. «Детиздата»). Предварительная цензура. Сделано 8 вычерков и исправлений. Наиболее характерные: «Хоть Соломон Абрамович и еврей,— рассказывала Поля подругам,— а говорит с тобой, как брат родной» (с. 9).— «Увидев Марийку с бабушкой, мальчишки бондаря бросали им вслед щепки и арбузные корки. — Ой, Манеле-шманеле! Скажи кукуруза! — кричали они... Марийка привыкла к тому, что на улице так уж повелось. Русские мальчишки дразнят евреев» (с. 16). «И мальчишки черноглазого Джафара, сынишку чистильщика сапог, тоже дразнят обидным словом — армяшка-бяшка». В деле интернационального воспитания советского ребенка,— заключает цензор свой отзыв,— указанное выше может принести вред. Конфискация у буржуев драгоценностей (в 1918 г.) изображена в таком виде (разговор служанок): «Чего? Какой там обыск? — спросила Поля.— «Неделя бедноты», большевики ходят по богатым квартирам и забирают золото и меха».— Получается, что не организованная конфискация, а что-то вроде грабежа». Цензор Лесохин. Принятые меры — исправлено». [14] В результате этой операции в издании 1938 г. и во всех последующих все упоминания о евреях вычеркнуты, кроме имени погибшего отца Поли — часовщика Соломона Михельсона и одного крайне примечательного места, которое каким-то чудом избежало цензорских ножниц. Возвращаясь, расстроенная и недоумевающая, девочка спрашивает у своей бабушки: «Бабушка, за что это они? Почему? — Но бабушка бормотала что-то непонятное:— Евреи... великий народ... У них нет своей страны. Разбросаны по всему свету...— И как Марийка ни приставала, она больше ничего не могла добиться. По дороге домой Марийка думала о том, почему это так несправедливо устроено. Все над тобой смеются, хотя ты ничего не сделал дурного» (с. 17). Обратим внимание на то, что эта сцена относится к дореволюционным годам: но все равно — антисемитизма в России «не было никогда...» В результате массовых репрессий в годы Большого террора расстрелянными и арестованными оказались не только люди, но и книги. Как известно, в спецхраны библиотек отправлялись десятки тысяч книг — и не только принадлежавших перу репрессированных авторов, но и содержащих упоминания их имен. Еженедельно, а то и чаще, выходили приказы-циркуляры Главлита со списками арестованных книг. Заодно строжайшей селекции подвергались еврейские книги, в частности, сионистские, выходившие до революции и в первые 2—3 года советской власти. Несмотря на реабилитацию (крайне выборочную и скромную), проведенную после XX съезда партии в 1956 г., и возвращение ряда изданий из спецхранов, книги на еврейскую тему не выпускались из них вплоть до самого последнего времени. Так, в имеющемся в моем распоряжении «Сводном списке книг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети», выпущенном Главлитом в 1973 г. с грифом «Для служебного пользования», фигурируют десятки книг такого рода. Перечислим лишь некоторые из них: Агурский С. Еврейский вопрос в коммунистическом движении (1917—1921). Перевод с еврейского Г.Майзель. Минск, 1926; Ахад-Гаам. Избранные сочинения. Перевод с еврейского. Т. 1. М., «Сафрут», 1919; Мартин Бубер. Обновление еврейства. Перевод с немецкого И.Б. Румера. М., «Сафрут», 1919; Война и еврейская проблема. Статьи Макса Нордау и др. М., Цейре-Цион, 1917; Волковыский И.И. Палестина и проблема палестинской колонизации. Пг., «Геховер», 1917; Гольдштейн А.М. Среди еврейства. (1901—1917). Пг., «Кадима», 1917; Динабург Б. Еврейская история. (Историческая хрестоматия). Источники и документы в хронологическом порядке от начала еврейской истории до наших дней. Пг., Общество по распространению просвещения среди евреев, 1919; сочинения Теодора Герцля, вышедшие в 1918 г. в петроградском издательстве «Кадима», и многие другие. В проскрипционные списки Главлита в эти же годы вошли еврейские журналы и сборники 20-х годов — «Еврейская мысль», «Еврейский крестьянин», «Сборники «Сафрут» и т.д. Целые десятилетия находился под спудом сборник В.Ф.Ходасевича «Из еврейских поэтов», выпущенный в 1923 г. издательством Гржебина в Берлине. Поэт сообщает в предисловии к нему: «Творчество поэтов, пишущих в настоящее время на древнееврейском языке, оказалось для меня наиболее ценным... Переводам с древнееврейского я уделил наиболее времени и труда. Они появлялись в разных альманахах и периодических изданиях. Под общей моей редакцией с Л.Б.Яффе напечатана книга «Еврейская антология. Сборник молодой еврейской поэзии. Издательство «Сафрут», М., 1918». Оба сборника регулярно включались в списки запрещенной литературы и не только, по-видимому, из-за того, что они составлены эмигрантом, но и за «специфическую тематику». В глазах цензуры усугубляло «вину» автора и составителя и то, что он ориентировался на поэтов, пишущих на древнееврейском, который, как известно, противопоставлялся идиш, как «язык клерикальной, сионистской буржуазии» и нещадно изгонялся цензурой, начиная с 20-х годов, о чем мне уже приходилось писать. [15] Тогда же была запрещена брошюра ленинградского писателя Леонида Радищева «Ступени. (Против антисемитизма)», изданная «Молодой гвардией» в 1929 г. в серии «Жгучие вопросы». Писатель собрал случаи проявления массового антисемитизма на заводах и фабриках, так заключив их описание: «Фактов этих — тяжелых и жгучих — очень много. И все то, что приведено здесь, грозно свидетельствует о том, что антисемитизм проникает во все слои общества, отравляя молодое поколение. Темное царство шевелится». Изъятию подверглись практически все книги 20-х годов, разоблачающие антисемитизм,— как в историческом аспекте, так и в современных его проявлениях. Запрету подлежала тогда последняя книга на эту тему, изданная после октября 1917 г.,— сборник «Против антисемитизма» (М., Издательство «Жизнь и знание», 1930). В него вошли статьи и очерки М.Горького, Ларисы Рейснер, рассказы Исаака Бабеля и других писателей. Как и во многих других случаях, санкция на запрет книги была испрошена Главлитом в 1940 г. в Управлении агитации и пропаганды ЦК ВКП(б): «Прошу вашего согласия,— писал тогда начальник Главлита Садчиков,— на изъятие из книготорговой сети и библиотек общественного пользования [...] сборника «Против антисемитизма». Наряду с ценными материалами об антисемитизме, как, например, речь тов. Ленина [...], в сборнике имеются статьи Б.Пильняка». [16] Главный аргумент запрета — публикация в сборнике рассказов и очерков расстрелянных к тому времени Пильняка и Бабеля, книги которых были уже изъяты, как и все книги «разоблаченных врагов народа». Однако, как показывает просмотр многих других произведений на еврейскую тему, включенных тогда в списки Главлита, они вовсе не содержали «криминальных» имен. Следовательно, запрещены они были исключительно из-за своей тематики (в самих же цензурных мотивировках, это, разумеется, тщательно маскировалось). И, наконец, последний сюжет: отношение цензуры к еврейской тематике с сентября 1939 до июня 1941 г., после заключения пресловутого пакта о ненападении Молотова-Риббентропа. Как справедливо и точно пишет автор статьи «Советские евреи во второй мировой войне» Реувен Эйнштейн, «...советско-германский пакт был заключен в самый критический момент в истории советского еврейства [...] очевидно, значительно больше евреев, чем неевреев, критически относились к самому пакту и его влиянию на жизнь в Советском Союзе. Они не могли не тревожиться, читая, например, в журнале «Безбожник» от 5 мая 1940 г. статью корреспондента, который незадолго до этого посетил Германию. В ней доказывалось, что наступление нацистов на еврейскую религию было главным достижением Третьего рейха; поэтому долгом советских атеистов было помогать новым политическим союзникам в их борьбе против религии». [17] О «странных, непонятных для нашего поколения 22 месяцах между заключением с Гитлером договора о ненападении и началом войны» писал в свое время известный герой войны и писатель Марк Галлай в повести «Первый бой мы выиграли»: «Многое представлялось нам необъяснимым, диким, противоестественным...». [18] Эти же мотивы звучат и в повести Григория Бакланова «Июль 1941 года», особенно в сцене в предвоенном московском ресторане, когда два вылощенных немецких офицера демонстративно покидают ресторан с возгласом «Постой, Курт! Здесь сидит еврей. Пойдем отсюда». Странное впечатление на евреев (и не только на них, конечно) произвели слова Молотова о «близоруких антифашистах» и телеграмма Сталина о «дружбе, скрепленной кровью». Цензурное ведомство в этот период изъяло из обращения и запрятало в спецхраны десятки книг антифашистского содержания, в изобилии издававшихся в СССР в период между 1933 и 1939 гг. Запрещена была, например, книга Н.Корнева «Третья империя в лицах» (М., 1933), поскольку «автор очень остро говорит об изуверствах германского фашизма и непрочности той базы, на которой держится фашизм. В условиях настоящего времени описываемое содержание книги не соответствует нашей внешней политике». [19] Был запрещен ряд других антифашистских книг, в том числе и немецких коммунистов, в которых с тревогой говорится о начавшемся геноциде в отношении евреев в гитлеровской Германии,— например, книга Э.Отвальта «Путь Гитлера к власти», так как «... в книге имеется ряд мест, которые сейчас, после заключения СССР договора о дружбе с Германией, нежелательны, например: «Теперь фашизм торжествует. Он справляет свои кровавые оргии по всей стране...». [20] В романе И.Ильфа и Е.Петрова «Золотой теленок» советские журналисты уверяют американского коллегу, едущего на открытие Турксиба, что в советской стране нет никакого антисемитизма. Американец никак не мог этого понять: «Как так? Евреи есть, а еврейского вопроса нет?» Он не мог понять, что в условиях тоталитаризма любой «вопрос» мог быть объявлен несуществующим — ситуация, поразительно напоминающая деятельность «Министерства правды», описанного в романе Джорджа Оруэлла «1984». История переписывается в нем каждый день в соответствии с последними указаниями Старшего Брата. Исчезнувший человек объявляется «нелицом»: «Он не существовал. Он никогда не существовал». По аналогии можно было бы сказать, что в те годы в СССР пропадали не только отдельные «нелица», но целые «ненации». Разумеется, евреи не были исключением: проводимая в конце 30-х годов Сталиным имперская политика, постоянные заигрывания с «великим русским народом» привели к существенному ограничению культурных и политических прав многих народов. Игра на традиционных, увы, предрассудках в отношении евреев дала впечатляющие результаты. И далеко не последняя роль в этой игре принадлежит цензуре — послушному и надежному инструменту идеологии. Ставшие известными в последнее время засекреченные документы дают определенные основания для того, чтобы сделать вывод о том, что провоцирование антисемитизма партией и государством началось, как и Большой террор, в середине 30-х годов. Начиналось это с фигуры умолчания, когда еврейский вопрос был объявлен несуществующим ни в прошлом, ни тем более в настоящем, а через десятилетие официальное юдофобство уже приняло открытые, лишь слегка закамуфлированные формы, чуть не закончившись на рубеже 1952—1953 гг. настоящей трагедией. Последствия проводимой при тоталитарном режиме политики в этом направлении сказываются до сих пор. Ибо, словами того же Оруэлла, «если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что его никогда не было,— это пострашнее, чем пытка или смерть». Примечания [1] См. подробнее: «Монархия погибла, а антисемитизм остался. Документы Информационного отдела ОГПУ 1920-х годов. / Публ. Н.Тепцова // Неизвестная Россия. XX век. М., 1993. Вып. 3. С. 324—360. [2] См.: Абрамский Ш. Биробиджанский проект. 1917—1959.// Евреи в Советской России (1917—1967). Иерусалим, 1975. С. 107—125. [3] ЦГА ИПД. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1624. Л. 105. [4] Там же, л. 107. [5] Там же, л. 109. [6] ЦГА ИПД. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1625. Л. 158. [7] ЦГА ИПД. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1625. Л. 157. [8] Там же. Д. 2296. Д. 290. [9] Цензорская правка «Голубой книги» М.М.Зощенко/Публ. С.Печерского // Минувшее. Исторический альманах. М., 1991. Вып. 3. С. 368. [10] Боровой С.Я. Воспоминания. М.—Иерусалим, 1993. С. 189. [11] Там же. С. 11. [12] Там же. Д. 2296. Л. 107. [13] Там же. Д. 2295. Л. 137—138. [14] Там же. Д. 2862. Л. 8. [15] Hebrew Publications and the Soviet Censor in the 1920s // East European Jewish Affairs. 1993. №1. S. 91—100. [16] Гос. архив Российской Федерации. Ф. 9425. Оп. 2. Д. 19. Л. 125. [17] Евреи в Советской России... С. 10. [18] Галлай М. Первый бой мы выиграли. М., 1988. С. 17. [19] ГАРФ. Ф. 9425. Оп. 2. Д. 19. Л. 115. [20] Там же. Л. 124. http://jewish-heritage.org/tp3a14r.htm |
|
|
|
Сообщений в этой теме
 Ирена Процесс по "Делу врачей". Убийство Михоэлса Вторник, 10 Августа 2004, 22:16
Ирена Процесс по "Делу врачей". Убийство Михоэлса Вторник, 10 Августа 2004, 22:16
 Ирена RE: Процесс по "Делу врачей". Убийство Михоэлса Вторник, 10 Августа 2004, 22:41
Ирена RE: Процесс по "Делу врачей". Убийство Михоэлса Вторник, 10 Августа 2004, 22:41
 Ирена "...Песня полетела по всем фронтам – ее перед... Вторник, 18 Января 2005, 17:50
Ирена "...Песня полетела по всем фронтам – ее перед... Вторник, 18 Января 2005, 17:50
 Kloots Присутствовал я как-то на встрече зрителей с М.М. ... Среда, 19 Января 2005, 21:59
Kloots Присутствовал я как-то на встрече зрителей с М.М. ... Среда, 19 Января 2005, 21:59
 Ирена Осталось выяснить, кто что понимал под словом ... Среда, 19 Января 2005, 22:02
Ирена Осталось выяснить, кто что понимал под словом ... Среда, 19 Января 2005, 22:02
 Kloots Поскольку дело происходило в период ранней Перестр... Среда, 19 Января 2005, 22:27
Kloots Поскольку дело происходило в период ранней Перестр... Среда, 19 Января 2005, 22:27
 Ирена Виктор Левашов. Убийство Михоэлса
Бибилиотека
Цит... Среда, 19 Января 2005, 22:30
Ирена Виктор Левашов. Убийство Михоэлса
Бибилиотека
Цит... Среда, 19 Января 2005, 22:30
 Ирена Не факт. Но пусть будет по вашему. Среда, 19 Января 2005, 22:32
Ирена Не факт. Но пусть будет по вашему. Среда, 19 Января 2005, 22:32
 Kloots Я просматривал этот текст. К литературе это, пожал... Среда, 19 Января 2005, 22:34
Kloots Я просматривал этот текст. К литературе это, пожал... Среда, 19 Января 2005, 22:34
 Ирена Спасибо за мнение, собственно я примерно так и хот... Среда, 19 Января 2005, 22:37
Ирена Спасибо за мнение, собственно я примерно так и хот... Среда, 19 Января 2005, 22:37
 Kloots А я - "не люди"? ' /> Среда, 19 Января 2005, 22:41
Kloots А я - "не люди"? ' /> Среда, 19 Января 2005, 22:41
 Ирена Kloots мы, учствующие, относимся к подвиду "м... Среда, 19 Января 2005, 22:45
Ирена Kloots мы, учствующие, относимся к подвиду "м... Среда, 19 Января 2005, 22:45
 Kloots Надо запомнить! Среда, 19 Января 2005, 23:10
Kloots Надо запомнить! Среда, 19 Января 2005, 23:10
 michael smolyak «Процесс» (ДЕЛО №2354) кликни на картинку
О ФИ... Понедельник, 30 Октября 2006, 4:54
michael smolyak «Процесс» (ДЕЛО №2354) кликни на картинку
О ФИ... Понедельник, 30 Октября 2006, 4:54
 semen273 хорошая ссылочка. До самого фильма бы добраться... Понедельник, 30 Октября 2006, 15:55
semen273 хорошая ссылочка. До самого фильма бы добраться... Понедельник, 30 Октября 2006, 15:55
 michael smolyak "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ МОГ СКАЗАТЬ НЕТ" - ... Вторник, 23 Января 2007, 20:58
michael smolyak "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ МОГ СКАЗАТЬ НЕТ" - ... Вторник, 23 Января 2007, 20:58
 michael smolyak Леонид Райхлин Слово о Михоэлсе
... Четверг, 7 Февраля 2008, 3:06
michael smolyak Леонид Райхлин Слово о Михоэлсе
... Четверг, 7 Февраля 2008, 3:06  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
| Текстовая версия | Сейчас: Сб, 1 Июня 2024, 18:43 |